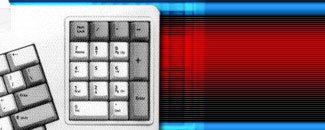Сыкун Ту. Поэма о поэте. Перевод С. П. Боброва
- Сыкун Ту — китайский поэт династии Тан.
- Поэма о поэте.
- 24 стихотворения.
- Другие названия: Категории поэтических произведений. Категории стихов. Стансы.
- кит. Ши пинь (詩 品).
- Перевод С. П. Боброва
- С комментариями переводчика.
- Википедия о нем
- Источник:
- Народы Азии и Африки. 1969 (1968).
- Другое издание: Юрлов А. Подражание стансам Сыкун-ту. Москва: Сам полиграфист, 2016.
- Перевод по подстрочнику:
- Алексеев В. М. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту. Перевод и исследование. П., 1916.
«Поэма о поэте» Сыкун Ту в поэтическом переложении
Сергей Бобров
Вступительное слово
В этом году исполняется 80 лет известному писателю и переводчику Сергею Павловичу Боброву, литератору с необычайно широким кругом интересов и привязанностей.
Предлагаемые вниманию читателей стихи и поэтический комментарий к ним являются откликом С. П. Боброва на переводы стансов Сыкун Ту, сделанные В. М. Алексеевым в 1916 г. Сам В. М. Алексеев в своих письмах, сохранившихся в личном архиве С. П. Боброва, писал:
«Мне кажется, что Ваши подражания, а особенно фантазии было бы хорошо напечатать. Ведь это — целый новый поток в русской поэзии» (из письма от 5 июня 1932 г.). Назвав стихи Боброва «подражаниями», В. М. Алексеев все же написал:
«Ничего подобного по силе восприятия и удачной характеристики о с н о в н ы х м о м е н т о в я не слыхал» (из того же письма). Эти слова говорят уже о том, что стихи С. П. Боброва как-то воспроизводят и «основные моменты» произведения Сыкун Ту.
И это свое мнение В. М. Алексеев подтверждает в другом письме (от 17 декабря 1940 г.):
«...Но п р а в о т у, глубоко Вами прочувствованную, я оспаривать не буду».
Стихи С. П. Боброва — плод вдохновенного труда, подлинный голос его поэтического сознания. Это видно хотя бы из его комментариев к стихам.
Как комментарий к стихам, так и сами стихи С. П. Боброва представляют весьма любопытный отклик поэта — современника В. М. Алексеева — на труд последнего. Это есть, следовательно, и факт о б щ е с т в е н н о й истории нашего китаеведения, и факт истории нашей поэтической мысли 20 — 30-х годов нашего века. В сущности, единственный, так как К. Бальмонт, отклика которого — именно как поэта, — так ждал В. М. Алексеев (это я могу удостоверить), ничего кроме вежливых слов не сказал, да и то в непосредственном обращении к В. М. Алексееву.
Стихи С. П. Боброва представляют превосходный образец особого поэтического жанра: п а р а ф р а з а. Лист создал свой знаменитый парафраз на темы «Риголетто» Верди, Шопен создал парафраз на тему «Дон Жуана» Моцарта. Есть даже более близкая аналогия: сделанная крупным музыкантом с в о я т р а н с к р и п ц и я какого-нибудь известного произведения другого музыканта. Таковы, например, известные транскрипции Бах — Бузони, Паганини — Крейслер. Стихи С. П. Боброва ближе ко второму явлению, так как у него не стихи «на темы» Сыкун Ту, а т р а н с к р и п ц и и каждого станса. Так что это как бы «Алексеев — Бобров».
Некоторые аналогии представляют также стихотворные транскрипции псалмов Давида, транскрипция молитвы Ефрема Сирина, сделанная Пушкиным. Это — не то, что «подражание Корану»... Там — именно «на темы»... У Боброва же — в точном смысле слова «транскрипции» и «парафразы».
Парафраз С. П. Боброва представляет все-таки и некоторую особенность: это парафраз не оригинального произведения, а парафраза Сыкун Ту — Алексеев. С. П. Боброва вдохновили не столько так называемые филологические переводы В. М. Алексеева, сколько его собственные поэтические пересказы, введенные им в его работу. Все это подымает интереснейший вопрос: о р о л и с о з н а н и я исследователя — человека совсем иного века, иной системы мышления, в понимании и передаче произведения поэта, человека совсем другого века и носителя особого поэтического сознания, и об общественно-поэтической реакции времени исследователя на это произведение исследователя, а через него — на исследованный им предмет...
Н. И. Конрад
Сыкун Ту
Поэма о поэте
I
Могучий хаос
Свет моих слов — словно блеклая тень,
Сила и суть наполняют душу,
Путь простоты — им я в хаос войду,
Силы скоплю и мощь отдам.
Думы полны мириадами форм,
Вот прохожу я пустыню пустынь.
Огромные, жирные груды туч,
Бурный, летучий, долгий ветр.
Грани и формы идут предо мной,
Ляжет бескрайной округой мир.
Легкой рукой его удержу,
Полная ясность. Нет границ.
II
Пресная пустота
Простое безмолвие точит
Непостижимое поле чудес,
И гармония будет пищей
Одинокому журавлю небес.
Как благодетельный ветер
В мягких складках шелков, —
Смотри-ка, бамбук звенит —
Давай, унесем домой!
Вижу — оно со мной,
Подойди — и образ разрежен,
Кажется явственный призрак,
Руку протянешь — и нет.
III
Тонкая пышность
Пестрая радость бегущей воды
И пышные дали весны.
Безмолвием дышит долина моя,
Прекрасный гость у меня.
В голубом изумруде персик весной,
В воздухе солнце. Берег реки.
Ива роняет тень на тропу,
Иволга к иволге струйкой мелькнет.
В сердце унес бы! нет, тенью бежит!
Ближе посмотришь — это жизнь.
Я возьму эту прелесть неумелой рукой,
Древность порадую новой весной.
IV
Пограничная сосредоточенность
Безлюдие. В елях мой домик стоит
Солнце садится. Тихий ветр
Волосы тронет, Один иду
Вскрикнет птица — в тишина.
Гуси, лебеди! вас здесь нет,
Люди ушли далеко;
Только друг моих дум со мной,
В одинокой памяти живет.
Ветер над морем. Туч лазурь.
Мель большая. Ночная луна.
Идешь, — стихи на устах, — и вдруг
Воды тяжелые катит река.
V
Старинная высота
Я — на коне величавых дум
Лотос в моей благородной руке.
О, бесконечность странствий моих,
Тихие тайны внемирных пустот!
Вот от Медведицы месяц идет,
Ветер неслышный взлетает за ним;
Древние горы в ночной бирюзе,
Колокол чистый с волнистых вершин.
Гения ждет растворенный дух.
О, безграничность! единая сила!
Древние тихо встают цари,
Пращуры темного мира.
VI
И омыто, и выплавлено
Золото каплет из грубой руды,
Глянет свинец серебром.
И я — через горн горючий
К камушкам речки вернусь.
Там сквозит весенняя радость,
В древнем зеркале явится дух,
В сердце начальная чистота
К истине месяц уносит меня.
Звезды мерцающие! С вами я.
Сердце поет одиноких людей.
Мчит настоящее быстрой струей,
Там, на луне – отчизна моя.
VII
Старинная красота
В чистой нефритовой льдинке — вино,
Дождь звенит над моим шалашом.
Гости со мной. А вокруг звенит
Тихий, пустой бамбук.
Парча облаков. И в ясной листве
Птичий певучий гомон и крик.
С лютней мы дремлем в тени,
Серебряной пылью летит водопад.
В воздух скользнет безмолвный лепесток;
И ты, молчаливый — живой цветок!
Я пишу тебя, пышная жизнь тишины,
Только об этом и пишем мы.
VIII
Крепкая сила
Гений царит в просторах пустых,
Радугой чистой раскинется дух, —
Так в пропасть бросается дикий ветр,
Тучи взрывая, вольный идет.
Силу и истину я вдохну:
Скупец простоты, я сиянье храню.
Мощное небо! ты движешь все,
Но мощь мировая — одно со мной.
Третьим я стану небу-земле,
Преобразись, природа, во мне!
Сутью дышит вдохновенье мое
И до конца изолью я его.
IХ
Узорчато-прекрасное
Я позабуду богатство и шум.
Золото желтое — ты мне не друг.
Жадная скудость на яства глядит,
А пресный ручей, как флейта, звенит.
Чистый потухнет туман над рекой,
Яркий абрикос теплеет листвой
Месяц играет оградой дворца,
Синие тени по камням моста.
Наши кубки благоухают вином.
Гусли вздохнут о счастьи моем,
Это — со мной, это — ты да я,
Жизнь и прекрасная дума моя.
X
Естественно само собой
Наклонись — и найди. Оно с тобой,
Ни у кого не надо просить.
Мир — во мне. Прикоснусь к бумаге
И — кругом зазвенит весна.
Едва — и раскроются листики,
Едва — и время цветет;
Эти дары не отнимешь,
А то, что нажил, умрет.
Когда станешь в теплую воду,
Кувшинка сама поплывет к руке,—
Вижу, как жизнь наша вьется
На великом Небесном Станке.
ХI
Гений неудержим
Вижу я превращения твои,
Эти пространства — во мне и мои;
Истина истин полнит меня,
В неудержимом безумьи я.
'Как вихри пустотной ширью гудят,
Как безбрежною синью горы горят,
Волной наводненья схватишь меня,
Форм мириады прочь унося.
Руку подъемлю светилам: — стой!
Фениксы, следом идите за мной!
Бич свистит над щитами химер,
Ноги омою в купели солнц.
XII
Накопляется втайне
Ветер живых вдохновений плывет,
Знаков не трону я.
Вы не касайтесь меня, слова,
Неутолима печаль моя.
Истина правит в пустых облаках,
Миг — и возникну с тобой,
Полон до края. Как лотос я
В ветре свернувшийся — затаюсь.
Пустотой танцует воздушная пыль,
Капелек тьмы — туман морской:
Мириады толпятся, парят, скользят —
И единою мира лягут волной.
XIII
Сердцевина духа
Неистощимость, вернись ко мне!
Подожди — и она с тобой.
Светлая рябь ожиданья бежит
И бездонною глубью вдохновение стоит.
Глянет цветок, закричит попугай,
Ивами вздрогнет башни уступ,
Гость мелькнет в бирюзе моих гор,
Чаши чистым вздохнут вином.
В дальние дали уходит дух,
Позабывая. И в тайной красе
Тихой природой рождается стих,
Как ты поспоришь с силою их.
XIV
Тончайше-плотное
Подлинный след — это стих живой
Но узнать невозможно его,—
Мысль и форма — их еще нет,
Но превращенье чудесно мое.
Струя говорит, смеются цветы,
Нежные росы цветут.
Уйдем далеко — и будем там.
И медленно дале пойдем.
Тише, художник, настороже!
С мыслью и словом наедине,
Словно весна в зеленом плаще,
Будто луна в снегах, в вышине.
XV
Небрежно-дикое
Дикий – глухой – необузданный дух,
Вот он – свобода моя!
Крепкой случайностью я богат,
Дивной природы большая тропа.
Хижину в соснах построю я,
Шапку сниму. Поют стихи.
Тихий за утром вечер идет,
А сердце не знает, какая пора.
Душа беззаботна, чиста и легка,
Забыты смятение и суета.
Мощной свободы чистых небес
В этом подобьи достигну и.
XVI
Дивная чистота
Томятся, толпятся сосны,
Легкой рабью поет ручей,
Снег на излучину ляжет,
Рыбацкая лодка идет.
Я ищу моего друга,
Тихо мои деревяшки стучат.
Остановлюсь и посмотрю
На пустыни долгую лазурь.
В,старине бедный дух отдыхает
Ключевой, несказанной простотой,—
Так выходит к нам наше солнце,
Так осенний воздух дрожит.
XVII
Извиваются изломы
Я — в извилистые горные выси,
В их бирюзовый изменчивый узор.
Струится яшмовый вечер,
Благоуханен цветочный простор.
Время играет моим сердцем,
Как кочевник свирелью своей, —
Уснет и воспрянет сердце,
Вздохнет и смолкнет свирель.
Кружатся и вьются речные всплески,
Буря бежит через тысячу троп:
Проклята мертвая точность сосудов,
Мир переменчив и новым живет.
XVIII
Наитие
Я возьму простые слова
Легкие мысли возьму,
Встречу уединенного друга
И сердце его найду.
Плачет чистый ручей,
Синеватые сосны поют;
Ты — принесешь нам сучьев,
Ты — слушаешь гуслей звон.
То, что мы слышим и постигаем,
Очарованье! — его не найти.
С неба приходит. Редкий звук.
Несуществующий – тонкий звук.
XIX
Горестное рвется
Бурей вихрь рвет испуганные воды,
Шумом и воем ломит леса.
Мысль беспокойно бежит сквозь века
И смертная горечь — моя тишина.
Струями время бессменно бежит,
Слава и гордость — пустая зола,
Слабо теряется путь живых,
В одиноком величьи вспомню о нем.
Меч холодный в величавых руках,
Скорбь наполняет мир.
Шелковым шепотом шуршат листы,
Дождь отощавший — на рощи мха.
ХХ
Образы
Всей моей силой ищу я тебя,
Чистая истина бытия!
Вас я найду – лепестки волны,
О тебе я скажу — солнце весны.
И — превращенья разорванных туч,
И — цвето-травы, начальный дух,
И — моря волны, пены, валы,
И — гор далеких зубцы, хребты.
Тайною чарой с бренностью сей
Ты обвенчаешься, правда вещей!
Формы отрину и образ найду,
Это достойно стиху моему.
XXI
Проходящая углубленность
Это не духов чудесные сны,
Это не жизнь убегает меня,
Это похоже на облака —
Чистая ветром идет белизна.
Издали словно шумит и идет,
Ближе – и вот оно исчезает!
Истины каплю в душе затая,
Лучше от мира исчезну я.
Скалы, деревья, лазурные мхи,
Свет ароматный — вы, думы мои!
Чем ближе я помню и знаю тебя,
Тем реже, тем тоньше душа твоя.
XXII
Парит и порхает
Один, несравненный, вот я ухожу,
Ввысь я лечу, уношусь одиноко.
Аист отшельника так уносил,
Тучи шли у старинных гор.
Так живописцем изображен
Человек мировой красоты,
Так улетает листик пырея
В ветра неведомые пути.
Не уловить и не описать,
Вот-вот услышу, — нет, не поймать!
Понял на миг — и ты уже в нем,
Ждешь – и оно покидает тебя.
XXIII
Широкое и понятное
Жизнь — это сто лет,
Близок к началу конец.
Радости кратки, увы,
И, по правде, печаль широка.
Забудем. Чарка вина.
Цветы моего шалаша.
Мглистые тени плюща,
Редкие капли дождя.
Вот и последняя чарка вина,
Посох в руке — идем!
В быль обратится всякий из нас,
Только Южные Горы высоко стоят.
XXIV
Движение течет
Медленно кружится мира ось,
Планетой жемчужной бежит, блестя.
Этого не перескажешь,
А метафоры — для чудаков.
Смутной громадой идет земля
И в бесконечности небо плывет.
О, если бы этим движеньем жить,
И в бесконечность глухую плыть!
Страстно рванусь, ввысь унесусь,
Быстрой искрой назад вернусь,
В этом движеньи вперед и назад,
Тысячелетия прожить бы я рад.
1932-1935
<Комментарии>
«Поэма о поэте» Сыкун Ту относится к той области китайской поэзии. которая именуется «речи в стихах», или «категории стихов». Это, в сущности, поэтизированные трактаты о вдохновении, о творческом процессе, о психологии творчества, так сказать, о естественной истории творчества — китайская поэтика, эстетика древнего Китая.
Сыкун Ту оставил завещание поэтов периода Тан поэтам грядущих веков.
Существенной деталью такого рода произведений является пейзаж, при этом не пейзаж сам по себе, а пейзаж — соответствие духу поэтическому, часть той «обстановки», в которой родится поэтическое вдохновение. В китайской поэзии тема эта была хорошо разработана, излюбленные ландшафтные образы описаны с величайшей тщательностью и разнообразием. Подражатели Сыкун Ту говорили о нем, что «он явил нам чарующее наитие», т. е. в прекрасных захватывающих читателя стихах показал воочию всю блестящую мощь ландшафтной темы в руках крупного художника. В соответствии с пейзажем живописуется и чувство-отклик, и обратно. Создается даже известный канон: если хочешь говорить об изменчивом, описывай рябь волны, горную тропинку, узоры яшмы и т. д. Некоторые излюбленные темы приобрели постоянные метафоры, бамбук именуется «этот господин», «тихий господин», «этот государь» и т. д. В руках эпигонов такой канон, разумеется, легко мог превратиться в нечто совершенно механическое, но для писателя с большим дарованием и начитанностью это был только повод для воспоминания о том, что и как сочиняли на данную тему поэты минувшего.
Этому помогает полуцитата, полунамек на стихи другого поэта, которые китайский любитель поэзии понимает с полуслова. Положим для примера, что нам встретилось бы такое русское четверостишие:
Встала из мрака — и ярче дня,
Ветром душистым — предков поля.
Эта арфа цветет в старинных краях,
Где ворон павлина несет на крылах.
Читатель, привыкший к таким полуцитатам-намекам, должен был бы вспомнить тут же, что слова «встала из мрака» принадлежат Жуковскому:
Встала из мрака младая, с перстами пурпурными Эос
— речь идет о заре.
Слова «предков поля» взяты из стихотворения Лермонтова «Ворон»:
Где цветут моих предков поля,
причем слово «цветет» повторяется в другой строке для усиления. Тут же упоминается и «арфа» из того же стихотворения:
И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук пролетел...
«Ворон» последней строки вызывает в памяти все стихотворение Лермонтова, но «павлин» поясняет, что это уже новый намек, а именно на строки Ломоносова из оды «Царей и царств земных отрада...»:
Небесной синевой одеян,
Павлина посрамляет вран,
т. е. китайский ворон, отличающийся исключительной красотой оперения, весь лазурный и цветной, как и сама китайская вышивка. Конечно, этот пример довольно груб (он приведен лишь для простоты), но ясно, что в умелых руках эта игра цитатами может быть проведена очень искусно и тонко. Если в русской поэзии эта игра цитатами нашла применение в шутке (вроде онегинской строки: «Мой брат двоюродный Буянов...»), затем в пародии, а потом «пошла по рукам» куплетистов, благодаря чему как художественный прием совершенно дискредитирована, то у китайского поэта эта игра цитатами объединяется с описанием «обстановки». Здесь даже слабый намек на ту или иную обстановку приводит на память ряд строк других поэтов, писавших на схожую тему, в силу чего игра намеками еще более усложняется и запутывается. В переводе, разумеется, невозможно было соблюсти все эти тонкости (иначе потребовался бы слишком большой комментарий), но все замеченные намеки приняты нами во внимание.
****
Переходя к самой поэме Сыкун Ту, раньше всего надо отметить, что эта поэма есть именно поэма, а отнюдь не «цикл стихотворений». Это — органически связанное произведение, и мы попробуем изложить здесь вкратце содержание и развитие этого замечательного памятника китайского искусства.
Дело в том, что, хотя целостность всего произведения и ощущается явственно при чтении, но ввиду большой сложности некоторые детали его строения и последовательности могут легко ускользнуть от читателя и тогда вся широта замысла Сыкун Ту не будет оценена. «Единый план Ада, — говорил Пушкин о Данте, — есть уже плод высокого гения». Большим подспорьем в разборе «Поэмы о поэте» являются комментарии Ян Тин-цзи, если, разумеется, попробовать добраться до сути его рассуждений, благополучно минуя крайне трудно воспринимаемую схоластическую оболочку его трактата.
Станс I, вводный, дает основную экспозицию поэмы — поэзия всемогуща, поэту «нет границ» в его достижениях, он космически велик. При этом с самых первых строк говорится, что дело не в словесном уборе поэзии, а в подлинном ее содержании. Это как бы эпиграф или ключ ко всей поэме, задающий основной тон и излагающий весьма серьезные требования к читателю. Общие положения станса можно отчасти сопоставить, например, с тютчевской строкой: «Поэт всесилен, как стихия», с пушкинским «Пророком». Вспоминаются также слова Гёте: «Прекрасное — это манифестация сокровенных сил природы»; Флобера (письмо к Л. Колле, август 1853 г.): «лучшие художественные произведения... в отношении приемов мастерства... неподвижны, как скалы, неспокойны, точно океан, полны листвы, подобно лесам, печальны, как пустыня, лазурны, как небо. Гомер, Рабле, Микельанджело, Шекспир, Гёте мне кажутся беспощадными».
Вслед за стансом I идет введение, т. е. читателю предлагают две основные темы, которые будут развиваться в первой ее половине. Первая тема — минорная, элегическая, это andante поэмы. Вторая тема — мажорная, жизнеутверждающая, тема гимна. Обе они рисуют в двух различных плоскостях первое зарождение творчества, его возникновение, тягу к творчеству, ту каплю жизни, которая, как бы переполняя чашу ощущений, чувствований, требует отзыва, отклика, песни.
Станс II переносит пас, по сравнению с первым, на землю. Язык сразу становится бедным, слабым. Речь идет о гармонии одинокого созерцания, о мимолетной, как бы ничтожной радости, вдруг мелькнувшей перед очами. Но поэзия словно только на миг еще появилась перед поэтом в его пустынном одиночестве, как неверное, неясное обещание. Это первая, минорная тема.
Станс III с гораздо большей силой раскрывает перед нами мажорную тему радости живого мира: мир полон пышной жизни, все расцветает и кипит ею, и — все это достояние поэта, но это еще только жизнь в ней самой («Только песне нужна красота, Красоте же и песни не надо» — Фет). Это вторая, мажорная тема искусства, зовущего к себе.
Оба станса отмечают неуловимость предмета поэзии, но в различных тонах. Однако и в том и другом стансе непосредственное впечатление встречается как бы с некоторым запретом — с силой цветущей самой для себя природы.
Станс IV возвращается к элегической, первой теме; в полном одиночестве, в дорогих воспоминаниях природа снова обнаруживает свою необъятную мощь, словно противопоставляя ее певучей силе поэзии и одновременно существуя рядом с ней. Это — развитие темы запрета, первая антиномия творчества.
Станс V развивает в суровом обличьи гимн жизни станса III, т. е. второй темы; в заключительных строках станса III поэт словно бросается к жизни со своей песней, но предстоит еще пережить искус высоких раздумий, близких к теме станса I, чтобы достойно говорить о сущем так, как о нем говорили древние народные сказания. Это напоминает ответ на предыдущий станс, здесь как бы намечается путь преодоления первой антиномии.
Станс VI повторяет в миноре первую и вторую темы — элегическую, первую тему (с оттенком, может быть, тютчевского «Мысль изреченная есть ложь» и гимноподобную, вторую тему, давая некоторый вывод: через искус раздумий и жизненные испытания поэт вернется к нежной природе, очистится в ней и тогда будет говорить с миром так, как с ним говорят звезды, как равный с равным.
Станс VII дает новый вывод из первой и второй тем, причем, если в предыдущем стансе верх одерживала минорная тема, здесь первенствует вторая тема, тема гимна сущему; тут собрано все дорогое и любимое, — все красиво, тонкой красотой шелестит бамбук, небо раскрывается после дождя лазурно, шумит жемчужная лента водопада, кругом крики птиц, а наше безмолвие с другом есть прямое блаженство жизни — и не оно ли есть поэзия? Ср. у Флобера (письмо из Бени-Суэфа, февраль 1850 г.): «Если бы ты знала, что за покой вокруг нас! В каких мирных глубинах странствует душа! Мы нежимся, бездельничаем, мечтаем. По утрам занимаюсь греческим языком, читаю Гомера, по вечерам пишу»; или пушкинское:
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень...
Станс VIII снова повторяет обе темы, связываясь со стансом VI — да, мощь природы как бы встает на пути поэта, но древняя сила народных сказаний будет ему в помощь; вдохновленный силой природы, которую должно преодолеть, и мощью древней поэзии поэт обретет великое могущество, природа станса VII преобразится в нем, и вдохновение его станет сутью сущего. Это снова как бы отклик на «задумчивую лень» предыдущего станса — поэзия более сурова, чем эта беззаботная дума.
Станс IX разворачивает далее две основные темы, как бы варьируя тему станса VII, тему «задумчивой лени» на самых трогательных и мягких нотах и смягчая суровость предыдущего станса. Тема станса V, тема древней ночи сказаний, мифов, возвращается в стансе IX, повторяя в ritenuto ноктюрна тему блаженства жизни поэта, отрекшегося от мирских благ во имя прекрасной думы.
Станс X является, наконец, выводом из всех предыдущих вариаций двух основных тем, в том числе и из предшествующего станса: как же обрести это пиитическое блаженство? На это дается ответ как у Гёте — «оно с тобою» (перекликаясь таким образом со стансом II, но в ином уже смысле, как бы оправдывая первое это указание на близость поэзии): где жизнь, там и поэзия, в этом-то и есть правда искусства. Это первое достижение поэтической мудрости, тема, которая далее будет повторяться и углубляться.
Станс XI развивает в торжественном мажоре станса I тему десятого; поэзия, как бы ни была проста ее речь, озаряет поэта священным безумием, потрясающей силой трагического вдохновения, которая поднимает его выше стихий и гениев.
Станс XII, как бы возражая предыдущему, повторяет ту же тему в элегии: поэт не хочет слов, от них веет холодом (вторая антиномия творчества); он затаится в молчании, но и тогда дорогая поэзия не покинет его (ср. у Делакруа в «Дневнике»: «Это торжественное и мрачно-поэтическое чувство человеческой слабости, неиссякаемого источника самых сильных ощущений»). В этом затаенном молчании с таинственной медлительностью в сердце поэта накопится живое искусство. Это противопоставление стансу XI, но в то же время и разрешение темы — поэт не властен расстаться со стихом.
Станс XIII — кульминационная точка поэмы, в ней как бы выражена, наконец, вся суть станса X. Сперва тема развивается в форме повтора элегии предыдущего станса, но в противоположном смысле; поэт не хочет таиться, он молит поэзию вернуться к нему. И тут вдруг становится ясным, что его ожидание — это всего лишь рябь волны на громадных водах вдохновения; снова природа пленяет поэта своей дикой красой, словно отвлекая его от скорбной мысли о его человеческой немощи, словно утешая — вот в этот миг неожиданно рождается возлюбленная поэзия.
Станс XIV излагает как бы самую душу поэтического воплощения, трогательное величие и возвышенное смирение поэта в долгожданный миг творчества. Поэт пережил смятения и противочувствия искусства, стих уже на устах, его рождение прекрасно (как у Гёте: «Искусство творчески проявляет себя задолго до того, как оно становится прекрасным»).
XV станс дает нам далее картину души, уже перешедшей порог творчества, души, как бы испытывающей живительное облегчение — это дикая простота, свобода, ясность, чистота поэта в его стихии.
Станс XVI — глубокая и трогательная элегия; художник словно распростился с суровым величием станса XIV: это точно отдых после пережитого сладкого и мучительного волнения. И здесь поэт видит, как оживает мир в лучах солнца, мир трепетный, плодоносный, стыдливо-изнеможенный.
Станс XVII дает антитезу станса XV: в своей беззаботной поэтической свободе поэт все же человек, время играет его сердцем, мир изменяется, «все течет» (третья антиномия творчества) — но ведь так оно и должно быть, это и есть правда жизни.
Станс XVIII возвращается к теме главного станса XIII и раскрывает тему предыдущего станса, как бы поясняя, что же именно открывается (при всех изменениях мира) в простых словах рожденного природой стиха. Это очарование поэзии, дружества и природы, это редкое мгновение жизни, оно прекрасно какой-то словно неземной красой.
Стансы XIX и XX представляют собой одно целое — первый является глубокой, мрачной и безнадежной элегией: все кругом напоено угрюмым ужасом, все исчезает в гибели, одинокое величие поэта бессильно перед вечным разрушением, природа плачет, не отзываясь на его смертельную скорбь... и неожиданно в следующем стансе внезапно с силой врывается оптимистическая тема гимна — да, правда в бренности, она таинственно заключена в том именно, что обречено гибели; поэту нужен только образ этого, и он найдет его.
Стансы XXI и XXII развивают тему двух предыдущих стансов, и вот он, этот желанный образ, это то, что поэт всегда ощущает в природе, что невозможно назвать («не знаю — что» Грациана), что делает думы поэта природой, а природу — его думами; в этом поэт уносится, словно листик цветка в ветре; это неуловимо, неописуемо, это суть жизни, это-то и составляет предмет поэзии. Второй станс снова возвращается к неуловимости поэтической сути, о чем говорилось в начале I, но уже в утвердительном смысле. Это — высшая степень совершенной тайны, говорит схоласт-комментатор. Надо разуметь: «тайны поэзии».
Станс XXIII поясняет снова картину примирения с гибелью, тему станса ХХ — вот наши бесхитростные радости, вот и общая судьба «обратиться в быль», это просто и понятно всякому, как пословица.
Заключительный станс XXIV в суровой простоте раскрывает истинный смысл темы примирения, как бы величественно восставая против убогой простоты предыдущего станса — в бесчисленных людских поколениях будет жить искусство, и поэт рад был бы прожить с ними еще тысячи жизней, ибо жизнь есть высшее благо. Так поэт, гордящийся своей лирой, завещает ее тысячелетиям.
Вот каков этот прекрасный, могучий, оптимистический — и нежный, и дикий — и мощный, и человечески-слабый гимн жизни и творчеству великого китайского поэта Сыкун Ту, которого можно, не обинуясь, поставить рядом с самыми великими художниками мира.
Поэт — это творец; еле заметное впечатление в одиночестве или пышный цвет жизни зовет его к искусству, природа подавляет его своей мощью, и он погружается в тяжелые раздумья, но кивая нежность природы пробьется и через эти думы, вернет его к деятельности, дружба подскажет ему, что бытие есть блаженство. Древняя народная поэзия, источник всякого искусства, приходит к нему на помощь; снова он обретает эту материнскую мягкость природы, и тогда ему становится ясно, что искусство — это жизнь. Поэт проникается гордостью, но тут же его чувство падает, он боится, что из-под кисти его выйдут одни слова вместо живого искусства, но как бы он ни падал духом, поэзия живет в нем сама по себе, природа идет к нему на помощь во всей своей утешительной красе — и вот рождается поэзия. Поэт смиренно и благоговейно встречает ее, наступает миг разрешения, живительного облегчения и грустно-блаженного отдыха. Но ведь поэт — человек, его думы изменчивы, как бы ни дарила его поэзия очарованием; он видит — все в мире обречено на гибель, на уничтожение. Но тут сама поэзия подсказывает ему, что ведь в этой-то бренности и заключено счастье мира, суть живого, которая и есть вечная тема искусства. Да, все на свете — и поэт тоже — все обречено гибели, но впереди бесчисленные людские поколения, и в их устах будет жить его искусство.
Таково вкратце содержание поэмы. Конечно, наш конспект — это всего лишь скелет этого замечательного произведения о душе поэта. Очевидно. что все 24 станса связаны воедино, но, с другой стороны, это словно описание двадцати четырех «основных тем» поэзии.
Как видит читатель из этого положения, поэма Сыкун Ту есть глубокое, чрезвычайно сильное в философском смысле, сочинение, замечательная Одиссея поэта,— сочинение, отмеченное гениальным проникновением в суть и в стадии художественного воплощения, охватывающее всю силу и всю слабость «великого бедняги», художника. Вот –
Бежит он дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы.
Вот — «дни его» текут «в глуши» —
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души,
вот поэзия на миг забыла его —
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
но вот и великое сердечное облегчение —
А я, коль стих единый мой,
Тебе мгновенья дал отрады —
Я не хочу иной награды,
Недаром темною стезей
Я проходил пустыню мира,
О, нет, недаром жизнь и лира
Мне были вверены судьбой.
Великий и чудный подвиг поэта, его искусство, творится в тиши уединения. Но это уединение не есть бегство от людей, оно все наполнено любовью к человеку. Только пустая болтовня может смешать муки творчества с жалким честолюбием, не забвением пугает холодность словесного искусства («вы не касайтесь меня, слова...»), а ужасная робость охватывает художника — хватит ли его маленьких сил донести до читателя всю возвышенную силу мира и человека. Эта удивительная честность, эта великая скромность больших людей и приводит к неподражаемым творениям искусства. Работа над собой не знает отдыха, в ней есть страшные минуты полного разочарования, почти отчаяния, но она же дарит художника чистыми радостями совершенного труда и «божественным» ощущением человека, поднимающегося над человеческим. Поистине лапидарный стиль китайца как нельзя более близок к этой теме. Его, то отчетливая, то наоборот, крайне туманная краткость совпадают с великой отчетливостью результатов труда — искусства и с той стихийной неуловимостью, с которой сочетание слов становится волшебным отражением всего человека в целом.
Китайские комментаторы и критики отмечают, что, хотя Сыкун Ту и писал в дни заката династии Тан, но и сам он и его творчество дышало всей силой танской культуры. Поэма его есть вывод, итог творчества поэтов танского времени, заключительный свод всей танской поэтики. Образный язык поэзии был ему родным, схоластические схемы мышления не мешали чувствовать остро, зорко и цельно. Он оставил нам изумительный бессмертный памятник художественной мудрости своего времени, времени исключительного расцвета словесного мастерства и высоких поэтических дум.
Поэзия Сыкун Ту в общем есть поэзия, близкая к поэзии созерцательной. Но давно известно, что крупные художники с трудом укладываются в рамки общих определений, ибо они шире этих рамок. Созерцательная поэзия Сыкун Ту все время зовет к действия и труду, к работе над искусством, над самим собой. Для кого и для чего? Для того, кто будет жить и этим миром, и этим искусством, для человека будущего. Это элегическая, уединенная поэзия. Но из этой элегии рождаются картины трогательнейшей дружбы, любви к жизни. Это уединение полно мыслями о живом человеке, о том, кто будет жить этой поэзией, думать над ней, мучиться своим трудом и так же радоваться ему. Пожалуй, все это может показаться узким — ведь у поэзии могут быть и более высокие, более действенные задачи. Это верно, конечно, но дело в том, что пока не разрешены эти «узкие» задачи, то, значит, вообще о поэзии еще и речи не заходило, а тем паче о еще более ее высоких задачах, связанных с судьбами человечества.
Эта седая старина понимает мир, человека и природу по-своему, иначе она понимать ее и не могла. Она говорит тем языком, который жил в то время. Изложить поэтику иным языком можно только после Гёте, Гегеля, Пушкина. Но сама поэзия не утеряла своего благоухания, а мысли ее становятся близкими и художнику современности, если их раскрыть и очистить от неуклюжей путаницы схоластических толкований, этой словесной «пыли веков», под которой погребены «правдивые сказания» о художнике.
|